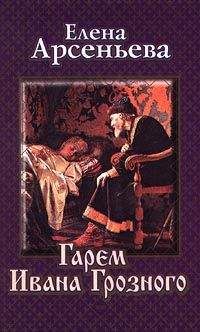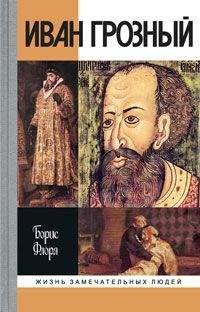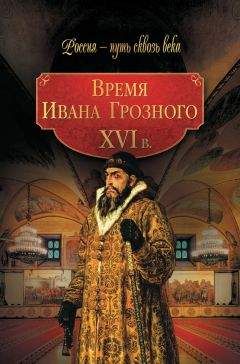Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]
Царь решил не женить сына еще года три-четыре, чтобы вполне окреп. Вот и пускай крепнет. За это время он всей душой привяжется к будущей невесте – а ею должна стать Ирина Годунова, никакая другая. Ну, смотрины Марфы Собакиной и уроки незабвенного тестюшки Малюты Скуратова многому научили Бориса Федоровича, он уже примерно представлял себе, что надо сделать, чтобы расчистить Ирине путь к сердцу младшего царевича. Да небось Федор и сам ее не проглядит: Ирина ведь мало что красавица – такая ласковая, такая заботница! Ее хлебом не корми, только дай кого-нибудь пожалеть, а человека, более достойного жалости, чем царевич Федор, Годунов в жизни своей не встречал.
Что же, полностью прибрать к своим рукам, через руки сестры, младшего наследника престола – это тоже очень даже неплохо. Надо только набраться терпения. И ни на минуту не упускать из виду ни Федора, ни Ирину. Сестра-то сестра, а все же она женщина. «Баба да бес – один у них вес!» – это мудрыми людьми сказано. Он уже доверился однажды женщине со всеми своими заветными чаяниями – но где теперь та женщина, где те чаяния?!
И – бывают же в жизни чудеса! – именно в то мгновение, когда Борис снова окунулся в пучину своих мрачных, разочарованных мыслей, к нему явилась посыльная с женской половины. Царица – на этом слове девушка запнулась и смущенно потупилась – изволит звать к себе Бориса Федоровича Годунова. Просит быть у нее немедленно!
* * *Годунов прищурился, не спеша повиноваться… Он уже давно приметил, что вот этакую малую заминку перед словом «царица» делали отныне все, кому случалось упоминать ее. Вслух, конечно, не усмехались, однако Борис не сомневался, что меж собою скрытно судачили. До него доходили вести, что чин свой новая – хм, хм! – царица обставила с большой пышностью, куда величавее, чем законно венчанная Анна Алексеевна. Однако теперь бояре и дворяне отдают своих дочек на дворцовую службу неохотно, хоть служба эта искони считалась почетной и хлебной. Зазорно боярышне, чья родовитость насчитывает десяток, а то и более славных поколений, кланяться безродной выскочке-прислужнице… к тому же ставшей причиною падения прежней царицы и гибели многих людей.
Все терпеливо ждали, когда пройдет плотская зависимость государя от этой выскочки и Аннушка Васильчикова вернется в ту же безвестную дыру, откуда вылезла. Но пока что-то не похоже было, что царь тяготится этой зависимостью, скорее наоборот, а потому Годунов, еще немножко помедлив для утишения самолюбия, все же последовал за сенной девушкой, оказавшейся такой же придверницей, какой еще недавно была и сама Анхен: отворив Годунову двери в светлицу, девушка умостилась на краешке лавы под светцом, вынула из кармана клубочек с воткнутым в него крючком и принялась за какое-то незамысловатое плетение.
Еще не войдя, Борис услыхал голос Анхен – и не сразу узнал его. Нежные переливы сменились рокочущими раскатами, и даже странным показалось, что этот басовитый голос исторгается тем нежным, стройным существом, нагота которого произвела-таки на Бориса – чего греха таить! – немалое впечатление и забылась не скоро, пусть даже и пугала его сильнее, чем влекла. Однако стоило ему ступить на порог и взглянуть на новую царицу, как он обнаружил, что прежняя Анхен – рыжая, воздушная красавица из Немецкой слободы – исчезла навеки. Вместо нее Годунов увидел статную, пышную бабу, облаченную в тяжелую золотую парчу, в ожерелье, шитое алыми лалами[38] и измарагдами самой чистой воды и самыми крупными, какие, наверное, только нашлись в знаменитой царевой сокровищнице. Кика ее была тоже расшита крупными лалами по золотой нити, высокие и широкие зарукавья напоминали овершья боевых рукавиц, а убрус, не белый, как носили большинство женщин, а вызывающе алый, отбрасывал мятежные сполохи на круглое румяное лицо.
Да, Анхен значительно раздалась вширь. Неужели это превращение из девицы в женщину так на нее подействовало? Или она все это время только и делала, что ела, наверстывая упущенное за годы полуголодного существования у скаредов-немцев?
Царица, словно не замечая вошедшего, продолжала своим железным голосом распекать какую-то бойкую, разбитную молодицу. Прислушавшись, Годунов постепенно понял, что это покупальщица, которая явилась нынче с торга с новыми запасами жемчуга, да не удовлетворила строгому вкусу новой царицы.
– Или мы басурманы тут какие? – бушевала Анхен. – Или татаре сплошь? Ты чего тут нанесла, сила злая? Говорено тебе было: покупай жемчуг все белый да чистый, а желтоватого никак не бери: на Руси его никто не покупает! Небось сговорилась с купцом за уступку, а денежки где выторгованные? В свой карман положила? Ужо погоди, отдам тебя царевым людям на спрос и расправу!
В это мгновение царица соизволила заметить посетителя и досадливо махнула покупальщице:
– Вставай и убирайся. Потом погляжу, что с тобой сделать. А ты, сударь, входи.
Покупальщица спешно вымелась вон, на прощанье окинув Годунова любопытным взглядом: гость не только не бился лбом об пол, но даже и не поклонился царице! Заметив оплошку, Борис чуть согнул шею, но ниже склониться не смог себя заставить.
– Что вытянулся, будто кол проглотил? – взвизгнула она. – Пред кем стоишь? В ноги падай!
Борис какое-то мгновение смотрел на нее изумленно, потом кровавая волна вдруг хлынула ему в голову, отшибая разум и застя глаза, и он, резко выставив руку, показал царице кукиш.
Теперь вытаращилась она.
Вызывающий порыв безрассудной смелости исчез в то же мгновение, и задним числом Годунов заробел, да так, что уже готов был плюнуть на гордыню и пасть в ножки – хм, хм! – царице.
Однако Анхен избавила его от унижения – усмехнулась с затаенным коварством и, отойдя к небольшому круглому столу, уселась в обшитое бархатом кресло. Кресло было развалистое, широкое, но Годунов обратил внимание, что пышные чресла Анхен едва-едва в него уместились. Протянув пухлую белую ручку, царица взяла со стола серебряную миску, полную крупных моченых слив, и начала их есть, доставая по одной. Она приоткрывала напомаженный рот, забрасывала в него сливу и медленно жевала, почмокивая и причавкивая, а потом выплевывала на стол косточки, не сводя с Годунова своих белых глаз и не приглашая его сесть.
– Значит, не хочешь мне кланяться? – сплюнув очередную косточку, наконец промолвила она этим своим новым, толстым голосом – таким же толстым, какой стала сама. – Не хочешь… А почему?
Годунов молча смотрел на нее, не зная, что ответить.
– Не говори, я и так знаю, – махнула она рукой. – Ты думаешь, что я ненастоящая царица, да?
Борис растерянно моргнул.
– Ну, само собой! – фыркнула Анхен. – Хоть государь и обвенчался со мною, но кто был на сем венчании? И кто вершил его? В Спасе-на-Бору[39], тайком, нас окрутил какой-то полупьяный поп. Ни выхода митрополичьего, ни пения благолепного, ни толпы народной, ни расплетания косы… Это одно, – Анхен загнула пухлый указательный палец – с некоторым трудом загнула, потому что он от пясти и до самого ногтя был унизан перстнями. И не только он. Диво, что у нее руки к вечеру не отвисали от этакой тяжести! – Теперь другое. По государеву завещанию все принадлежит его сыновьям. А я как же? А моя вдовья доля почему не указана?